Бестселлер измельчал в труху. Интервью.
Галина Юзефович — литературный критик, преподаватель и обозреватель «Медузы», рассказала с своём интервью много любопытного не только о литературе и критике как таковой, но и о конкретных книгах, на которые вам точно стоит обратить внимание.

— Перед этим разговором я перечитал несколько ваших интервью на разных ресурсах, чтоб воскресить их в памяти, и мне как-то бросилось в глаза, что вам не свойственен оптимизм — например, по поводу актуального состояния русской литературы.
— Похоже, вы что-то не так поняли: наоборот, я отношусь ко всему сугубо позитивно — даже немножко неловко за это, обычно ведь занятия литературой ассоциируются с надрывом, драматизмом и ощущением того, что всё плохо. Нет, я твёрдо уверена в том, что сегодня всё гораздо лучше, чем ещё пять лет назад. И литературным критиком сегодня быть гораздо интереснее, чем раньше. Другое дело, что за последние годы всё очень сильно изменилось, стало живее, веселее и энергичнее. Изменилась и литература, роли в ней, и модели её потребления, и литературная карта.
— Живее и веселее? А с чем связано такое позитивное изменение?
— Отчасти с моими персональными особенностями, а именно — с высокой степенью всеядности. Ещё 10 лет назад критик был исключительно серьёзным человеком, который должен был работать только с нетленкой. В то время я читала детективы только для удовольствия, потому что писать о них что-либо не приходилось. Но, в силу размывания границ, сегодня я чувствую себя более свободно, комфортно и уверенно. 20 лет назад, когда я только пришла в профессию, казалась дерзкой сама идея о том, что литература — это не только высокая проза и поэзия, но и масса других интересных вещей. А сегодня это нормально. А кроме того, в наше время исчез «невроз Белинского». Критик традиционно был человеком, который формирует иерархию, любой критик должен был ответить читателю на вопрос о том, кто более велик: Шишкин или, скажем, Водолазкин. И эта иерархическая система очень давила, её было непросто удерживать в голове. В этой сложной схеме у каждого писателя была своя полочка. А сейчас стало понятно, что иерархичность фактически разрушена. В этом есть масса недостатков, но на 130 с лишним миллионов наименований книг (а именно столько их сейчас существует в мире) никакая иерархия не надевается: в лучшем случае получится, как у Борхеса, у которого животные в классификации делятся на принадлежащих Императору, набальзамированных, прирученных и так далее. Определённо, сегодня критик в этом смысле гораздо более свободен.
— Помимо этой специфики, чем характеризуется актуальный момент? Со времён школы мы примерно представляем, что в любой период в русской литературе можно было проследить тенденции и ключевые темы — а сейчас можно?
— Мне кажется, что буквально в прошлом году мне удалось нащупать новую тенденцию — конечно, один год нельзя считать статистическим, и уже к концу 2019-го всё может измениться. Но последние лет десять вся русская литература была занята перевариванием и осмыслением русской травмы ХХ века: она вся начинается в окрестностях гражданской войны, затем следует раскулачивание, репрессии, Вторая Мировая, опять репрессии, оттепель... Всё это бесконечно рефлексируется и осмысляется разными способами. Наверное, это и правда нужная работа: в российском обществе с исторической рефлексией не очень хорошо, у нас до сих пор нет единой позиции по важнейшим вопросам нашей истории, так что нужно проводить такую групповую терапию, и литература берёт эту задачу на себя. Но, честно сказать, всё это немного надоело. То есть, в этом нет ничего плохого, но всё же литература нужна для разных вещей — в том числе для того, чтобы осмыслять самую что ни на есть современность. И за последний год я прочла много хороших книг, которые отошли от этой исторической травмы. Скажем, моей любимой книгой прошлого года стала книга Ксении Букши «Открывается внутрь».

Формально это сборник рассказов, но на деле — роман в рассказах. Это история про современный Петербург, не самый центральный и не самый богатый его район, а все сюжеты рассказов крутятся вокруг обычной маршрутки. Это много живых, узнаваемых сюжетов, которые создают картинку сегодняшнего дня. И это совершенно новый тип письма, там нет отсылок к прошлому, там не важно, у кого из героев кого посадили, расстреляли и репрессировали, это просто иной взгляд на нашу реальность.
Ещё есть прекрасный роман Анны Немзер «Раунд», который построен практически на актуальной новостной повестке и, тем не менее, это настоящая литература. Есть очень симпатичная повесть Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина», которая тоже без вот этого обязательного ритуального нырка в наше общее прошлое. Если говорить о последних годах, то я с робким оптимизмом фиксирую эту тенденцию — литература становится немножко больше про нас, а не про наших родителей, бабушек и дедушек. Это интересная тенденция, и она, надеюсь, будет иметь продолжение.

— Действительно, раньше ориентированность литературы на рефлексию, частную и общую память была заметна. Даже непритязательная фантастика — и та выходила про попаданцев, отправлявшихся в прошлое. Но можно ли считать отход от этой темы хорошей новостью?
— Для меня ответ — определённо да: мне кажется, что рефлексия важна, но нельзя жить только прошлым. Даже если говорить о памяти, то книга Марии Степановой «Памяти памяти» — она ведь не про прошлое; мне кажется, что она встраивается в эту канву, прошлое в ней предстаёт не самоценной вещью, а лишь тем, что формирует современность. Мне кажется, акцент там сделан на актуальное состояние человека, которому надо объяснить себе, откуда он такой взялся. Но ещё важнее то, где он пребывает сейчас. Этот текст, который формально о прошлом, вполне актуален для нас. Я хочу, чтобы в русской литературе было много разного, и то, что появляется обращение к сегодняшнему дню — это очень хорошая новость.
— Раз мы заговорили о тенденциях, как вы считаете — как может выглядеть следующий большой роман, который станет сенсацией? Какого текста нам сегодня не хватает?
— Если б я знала, я бы продала эту идею крупному писателю, и он бы страшно обогатился. Но особенность литературы состоит в том, что, когда мы оглядывается назад, мы вполне точно понимаем, почему та или иная книга стала знаковой, важной и обсуждаемой, но, пока мы смотрим вперёд или просто по сторонам, мы даже близко не можем угадать, что выстрелит в следующий раз. Это связано с тем, что литература — очень чуткая вещь. Например, кинематограф, даже авторский — это коллективное творчество. Чтобы родился фильм, нужно соучастие многих людей, а индивидуальная тонкая настройка у кино гораздо меньше. А литература — это то, что происходит в голове одного человека, который что-то такое ловит из воздуха. И удивительным образом в одни руки можно наловить больше, чем если толпой бегать с сетью. Как правило, литература откликается на какой-то запрос, который люди и сами не могут проговорить словами. Важные литературные произведения формируются этим самым запросом: внезапно оказывается, что людям нужно вот это, только они сами до сих пор об этом не подозревали. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос, но уверена, что такой текст уже пишется, а может, даже написан и скоро выйдет. Просто мы пока не знаем, что он нам всем очень нужен.
— Одним из последних примеров такой взрывной популярности сталроман «Петровы в гриппе и вокруг него» — вас удивило то, что с ним произошло?
— Нисколько не удивило. Во-первых, одна из базовых потребностей читателя — чтобы ему было смешно, а в «Петровых» очень много юмора на уровне текста, это смешной текст. Причём без намерения шутить: он не разбирается на гэги и шутки, он сам по себе смешной, внутри себя, он так построен. А во-вторых, он тоже лишён этой исторической рефлексии и очень узнаваем на уровне деталей: когда Петров, скажем, едет в лифте, ты понимаешь, что ты в этом самом лифте тоже уже ездил много раз. Мы чувствуем сопричастность к этому тексту, а кроме того, он отлично сюжетно выстроен, там есть классная, небанальная, сложно устроенная история. Это набор факторов, который при удачном стечении обстоятельств приводит к успеху.

— Я задал предыдущий вопрос, потому что и сама история взлёта «Петровых» удивительна — она почти случайна, и Сальников, который был у нас год назад, и сам затруднился объяснить её причины. Я помню, что в начале десятых существовало мнение, что для достижения популярности писатель должен быть мультимедийным — как Алексей Иванов, который тогда активно снимался в фильмах и инициировал проекты. А как это работает сейчас?
— Бывают счастливые случаи. Сальников — счастливый случай. Но не то, на что можно рассчитывать. Мне кажется, гораздо лучше работает пример Дмитрия Глуховского, который очень коммерчески успешен. Он один из немногих писателей, которые хорошо живёт на деньги, приносимые писательством. И у него прагматичный подход. Он говорит: я писатель, я хочу писать, я буду зарабатывать деньги, чем смогу, чтобы купить себе три года, когда я буду сидеть и писать свой следующий роман. Поэтому он очень публичен и активен, он выступает на радио и телевидении, он читает лекции, он известен. Он приложил много усилий, чтобы быть известным за рубежом. Это неплохой путь к писательской популярности. К Глуховскому многие относятся как к попсе, но, на самом деле, он пишет и продаёт хорошие вещи. Роман «Метро» очень хорош, а роман «Текст» — это большая серьёзная литература. Читателю вообще нельзя впарить фуфло — это важная особенность литературы как таковой. Все приёмы могут сработать, но только если ты пишешь крутые вещи. Можно сколько угодно петь, плясать и бить в бубен, но если люди не хотят тебя читать, тебе ничто не поможет. Всё упирается в текст. Да, книгу можно попытаться продать разными мультимедийными способами, как это делает писатель Иванов. Можно этого не делать и рассчитывать на счастливый случай, как это произошло с Алексеем Сальниковым. Но в основе всё равно текст. Литература — очень честная область, там нельзя раскрутить фуфло. То есть, можно, но это будет очень дорого и на очень короткий срок.

— Глуховский и упомянутый Иванов — пожалуй, представители массовой литературы, которые...
— Простите, немного перебью. Я не люблю определение «массовая литература», а в наше время оно вообще перестало что-либо означать. У нас получается, что массовая литература — это любая книга, которая хорошо продаётся. «Щегол» Донны Тартт очень хорошо продаётся. Делает ли его это массовой литературой? Это сложный и длинный роман с большим количеством многофигурных аллюзий. Роман Глуховского «Текст» — это очень сложный и нетривиально написанный изысканный текст с глубокой идеей. Он тоже очень хорошо продаётся. Так что я бы уходила от этого понятия. Мы говорим о массовой литературе, имея в виду условную Донцову или условных «попаданцев», но сегодня у каждой книги Донцовой средний тираж — 15 тысяч экземпляров. Одних «Петровых в гриппе» наторговали более 40 тысяч. Глуховский за десять лет написал семь книг, а его суммарные тиражи сопоставимы с тиражами Донцовой, которая за это же время написала 50 книг. Так что мы уже не понимаем, что такое массовая литература.
— Когда был пик популярности Донцовой, мне кажется, ориентироваться в сетевых книжных было как-то проще. Но сейчас я вообще перестал понимать, что там происходит и чем завалены центральные полки — всё ломится от какой-то геополитики, военной истории, аналитики так называемой. Раньше там же, кажется, стояли детективы в мягких обложках и любовные романы, но их аудитория уменьшается, а тиражи падают.
— Насчёт тиражей — недавно вышел отчёт Российской книжной палаты, в котором сказано, что тиражи книг в России снизились на 8,5 % по сравнению с прошлым годом. Диванные аналитики начали горько плакать по этому поводу, но давайте спросим издателей, которые издают не макулатуру, а штучный продукт. Скажем, Донцова как штучный продукт не существует. Это бренд. Как, например, Роллтон — произнося это название, мы же не каждую отдельную макаронину имеем в виду. А вот издатели, которые издают штучные вещи, говорят (правда, при этом мелко перекрестясь и трижды плюнув через плечо), что тиражи растут. Нельзя сказать, что это взрывной рост, но люди, которые читают книги, имеющие хоть какую-то художественную и прочую ценность, нашли себя, определили свои интересы и обеспечивают спрос. Так что понятие массовости уходит.

Мы живём в мире, в котором количество объектов увеличивается по экспоненте. Я говорила, что сегодня существует более 130 миллионов наименований книг, так вот порядка 95 миллионов появилось после Второй Мировой войны, а порядка 60 миллионов из этого числа — за последние 25 лет. Количество объектов быстро растёт, а значит, на каждый объект приходится меньше потребителей. А любой рынок, в том числе книжный, всегда состоял из большой головы и длинного хвоста, где «большая голова» — очень продаваемая «массовая литература», а «хвост» состоит из книг, которые читают меньше людей, вплоть до одного. В наше время голова уменьшается, а хвост становится длиннее. А значит, от понятия «массовой литературы» нам придётся отказаться. Всё классно, но в тот момент, когда оказывается, что её читает всего на 50 человек больше, чем ту, что нам кажется элитарной, то критерии массовости размываются. И я сама себе запретила пользоваться этим термином — можно, наверное, рассуждать только о массовости «селф-хелпа». Вышедшая в 2019 году книга «Тонкое искусство пофигизма» — это великий бестселлер, но и его масштаб не сопоставим с вышедшим двадцать лет назад «Гарри Поттером». За двадцать лет бестселлер измельчал в труху. Бытование книги в обществе меняется, и через несколько лет мы про то же «Тонкое искусство пофигизма» просто не вспомним.
— Мне уже стало немного неловко, что я упомянул «массовую литературу» — но, на самом деле, я имел в виду не качество, а тот, скажем так, превалирующий объём на магазинных полках.
— Несчастным книжным магазинам сейчас вообще очень трудно. Любой магазин должен каким-то образом сортировать книги. Вот интеллектуальная проза, вот проза попроще, вот детективы и фантастика. Так раньше было. А потом вдруг оказалось, что эти категории не работают. Например, «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина. Формально это фантастика, постапокалиптика. Но, если вы его поставите на соответствующую полку, то не продадите ни одного экземпляра. Потому что он, будучи фантастикой формально, относится к серьёзной философской литературе. Куда его деть? И туда и сюда? Или Ах Астахова — это вроде бы поэзия, но поставишь её в «Поэзию» — и ни один человек её не купит, потому что её с одной стороны подпирает Иосиф Бродский, а с другой — Виктор Кривулин.

— Астахову можно «сетевой поэзий» назвать.
— Только нет такой полочки, надо новую категорию придумывать. А пока происходит размазывание, расплывание всего и вся. И книжные магазины от этого корчит и колбасит: магазин не понимает, что куда ему поставить, а читатель не понимает, куда ему пойти. Но наблюдать за развалом этих категорий очень интересно. Как у Мандельштама: «Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя таинственная карта!»
Источник: zvzda
- Войдите, чтобы оставлять комментарии
- 1662 просмотра
Вход на сайт
Если вы зарегистрированы, то можете войти:
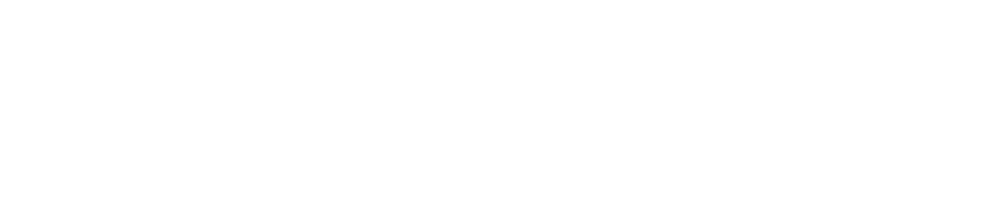






Комментарии
truechel 17.03. 2019 - 19:00